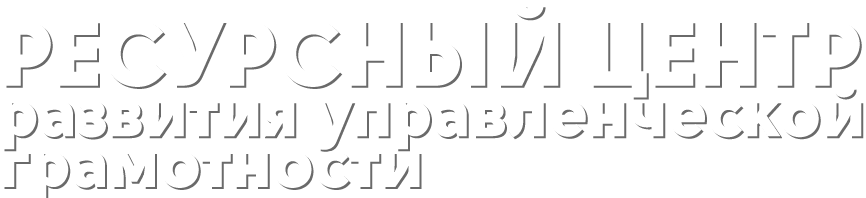Ежегодно весной начинается сезон чрезвычайных ситуаций. Расскажите, какие в первую очередь задачи стоят перед волонтерами в это время?
В первую очередь мы занимаемся мониторингом уже случившихся ситуаций, выявляем потребности и начинаем сбор средств. Например, в мае горел Красноярский край, сгорело более 100 домов. Есть жертвы и пострадавшие. МЧС в таких случаях не справляется ни с тушением пожаров, ни с оказанием помощи пострадавшим. В поселении Стрелка люди всю ночь сидели на улице и ждали пока приедет МЧС. К этому поселению нет дороги, туда нужно сплавляться на пароме. В итоге какую-то часть людей эвакуировали, какую-то оставили, привезли гуманитарную помощь, состоящую из не фасованной одежды. Это индикаторы организации работы на местах. 
На сайте фонда «Предание» есть постоянно работающая программа сбора средств на помощь в чрезвычайных ситуациях. Вы говорите, что средства собираются уже после ЧС. Получается, что программа «Предания» функционирует в качестве резерва?
Да, эта программу создали с этой целью. Она была запущена в 2012 году, когда стало понятно, что гражданское общество, некоммерческий сектор, откликается на чрезвычайные ситуации только спустя какое-то время. Мы не можем открыть сбор преждевременно – так устроено наше общество, люди жертвуют только тогда, когда грянет. Но мы все равно запустили эту программу в надежде, что это будет работать. Там собираются какие-то средства, но это крохи в масштабах чрезвычайных ситуаций, когда необходимы большие суммы денег.  Оказать экстренную гуманитарную помощь – это хорошо, но мы также стараемся оказывать долгоиграющую, инфраструктурную помощь, чтобы в дальнейшем можно было избежать подобных случаев уже на ранних стадиях. Нужно бороться не с последствиями, а с причиной. Мы проводим профилактическую работу среди населения о последствиях поджогов травы, организовали образовательные курсы для добровольных лесных пожарных. Такие дружины созданы в Забайкалье. Мы не тратились на гуманитарную помощь, а закупили оборудование для добровольных лесных пожарных, которые вот уже третий год успешно справляются с пожарами. Они тушат их на ранних стадиях, не дают подойти огню близко к населенным пунктам. Возможно, что в Красноярском крае мы сделаем то же самое, это зависит от эффективности сборов и от того, как эта ситуация будет освещаться в прессе. Без освещения в СМИ сборы идут шатко.
Оказать экстренную гуманитарную помощь – это хорошо, но мы также стараемся оказывать долгоиграющую, инфраструктурную помощь, чтобы в дальнейшем можно было избежать подобных случаев уже на ранних стадиях. Нужно бороться не с последствиями, а с причиной. Мы проводим профилактическую работу среди населения о последствиях поджогов травы, организовали образовательные курсы для добровольных лесных пожарных. Такие дружины созданы в Забайкалье. Мы не тратились на гуманитарную помощь, а закупили оборудование для добровольных лесных пожарных, которые вот уже третий год успешно справляются с пожарами. Они тушат их на ранних стадиях, не дают подойти огню близко к населенным пунктам. Возможно, что в Красноярском крае мы сделаем то же самое, это зависит от эффективности сборов и от того, как эта ситуация будет освещаться в прессе. Без освещения в СМИ сборы идут шатко.
Как выстраивается работа волонтерского корпуса в зоне ЧС?
Выезжая, мы проводим мониторинг потребностей в зоне ЧС. Выявив, что необходимо пострадавшему населению (одежда, инструменты, продукты питания), начинаем работать со всеми участниками процесса, выясняем, что есть у МЧС, у Росрезерва, у администрации, у бизнеса.  Нет общей системы, которая работала бы на территории всей России при каждой чрезвычайной ситуации, на каждую ЧС накладывается местная специфика. Как показывает практика, только взаимодействие всех участников процесса – МЧС, местной администрации, НКО и бизнеса – обеспечивает качественную и быструю работу. Хороший пример – Дальний Восток, наводнение 2013 года. Это эталонный кейс по оказанию помощи во время чрезвычайной ситуации. Все объединились и благодаря этому не было жертв во время наводнения. Удалось избежать больших потерь сооружений, личного имущества и социально значимых объектов. Удалось предотвратить затопление некоторых поселений, потому что их жители самостоятельно строили дамбы. Через три-четыре дня к нам обратился крупный бизнес и предложил свою помощь. Когда мы что-то закупали, нам отдавали это по минимальным ценам, помогали с доставкой, предоставляли бесплатную технику. Это идеальный кейс.
Нет общей системы, которая работала бы на территории всей России при каждой чрезвычайной ситуации, на каждую ЧС накладывается местная специфика. Как показывает практика, только взаимодействие всех участников процесса – МЧС, местной администрации, НКО и бизнеса – обеспечивает качественную и быструю работу. Хороший пример – Дальний Восток, наводнение 2013 года. Это эталонный кейс по оказанию помощи во время чрезвычайной ситуации. Все объединились и благодаря этому не было жертв во время наводнения. Удалось избежать больших потерь сооружений, личного имущества и социально значимых объектов. Удалось предотвратить затопление некоторых поселений, потому что их жители самостоятельно строили дамбы. Через три-четыре дня к нам обратился крупный бизнес и предложил свою помощь. Когда мы что-то закупали, нам отдавали это по минимальным ценам, помогали с доставкой, предоставляли бесплатную технику. Это идеальный кейс.
Были ли обратные примеры?
Это Крымск. Все, что там происходило напоминало басню «Лебедь, рак и щука». Каждый занимался чем-то своим, все толкались локтями: МЧС, администрация, волонтеры. Туда приехали порядка 10 тыс. добровольцев. Это было огромное количество людей, которые не особо понимали, зачем они приехали. Кроме того, Крымск был на повестке дня в СМИ практически целый месяц и все это время люди со всей России собирали гуманитарную помощь, хотя площадь затопления там была диаметром примерно 100 километров. И вода не стояла там по полтора месяца, как на Дальнем Востоке, она пришла и ушла.  Поток гуманитарной помощи не прекращался очень долго, мы встречали фуры и вагоны даже в ноябре, хотя наводнение было в июле. С сентября мы уже занимались не выдачей гуманитарной помощи, а ликвидацией последствий: восстановлением мостов, осушением домов, обеззараживанием поликлиник, детских садов и школ. А гуманитарная помощь все приходила и приходила. Я говорил, что сборы идут хорошо, когда их освещают СМИ, но иногда происходят перегибы. Здесь СМИ перестарались.
Поток гуманитарной помощи не прекращался очень долго, мы встречали фуры и вагоны даже в ноябре, хотя наводнение было в июле. С сентября мы уже занимались не выдачей гуманитарной помощи, а ликвидацией последствий: восстановлением мостов, осушением домов, обеззараживанием поликлиник, детских садов и школ. А гуманитарная помощь все приходила и приходила. Я говорил, что сборы идут хорошо, когда их освещают СМИ, но иногда происходят перегибы. Здесь СМИ перестарались.
Существует ли какой-то регламент сбора гуманитарной помощи?
Инструкции по работе добровольческих движений и сбору гуманитарной помощи разработаны и есть в свободном доступе. Существует хороший проект, который в свое время запустило МЧС, – «Сфера». Жаль, что его убрали на полку. Это идеальный регламент работы во время чрезвычайных ситуаций.
Как происходит коммуникация волонтерского корпуса с местными жителями и администрацией?
В идеале мы стараемся сразу найти местное активное сообщество, которое уже объединилось в группу и пытается заниматься ликвидацией последствий ЧС. Чтобы не терять времени мы присоединяемся к ним и общими усилиями решаем проблему. Через них привлекаем волонтеров, собираем гуманитарную помощь и пожертвования, если в этом есть необходимость.  Но в первую очередь необходимо налаживание отношений с местной муниципальной властью. Без взаимодействия с властью очень сложно работать и деятельность становится профанацией. Для того чтобы выявить все потребности, нужно обойти каждого пострадавшего и составить списки, а это требует колоссальных человеческих и временных ресурсов. Проще прийти в администрацию, где уже есть все нужные данные. Даже на начальном этапе взаимодействие с госорганами спасает волонтерский корпус от лишних действий, траты времени и ресурсов. В дальнейшем необходима транспортная логистика. Если делать это через коммерческие структуры, то на транспорт уходит много денег. А администрация имеет возможность привлекать бизнес, местные военные части, местное МЧС, чтобы они помогали волонтерам доставить гуманитарную помощь.
Но в первую очередь необходимо налаживание отношений с местной муниципальной властью. Без взаимодействия с властью очень сложно работать и деятельность становится профанацией. Для того чтобы выявить все потребности, нужно обойти каждого пострадавшего и составить списки, а это требует колоссальных человеческих и временных ресурсов. Проще прийти в администрацию, где уже есть все нужные данные. Даже на начальном этапе взаимодействие с госорганами спасает волонтерский корпус от лишних действий, траты времени и ресурсов. В дальнейшем необходима транспортная логистика. Если делать это через коммерческие структуры, то на транспорт уходит много денег. А администрация имеет возможность привлекать бизнес, местные военные части, местное МЧС, чтобы они помогали волонтерам доставить гуманитарную помощь.
Как власть на местах воспринимает волонтеров, которые прибывают на помощь?
По-разному. На Дальнем Востоке, например, была удивительная отдача от местной администрации. Нам предоставляли все, что было нужно. Губернатор вместе с нами на вертолете облетел все пострадавшие населенные пункты, показал нам, где какие разрушения, где нужна какая помощь. Назначил ответственного по взаимодействию с нами, который курировал все наши вопросы. Если нужен был транспорт, то нам предоставляли транспорт, если нужно было доставить груз из Москвы, то он договаривался о самолете. Он все взял на себя и это было прекрасно. Если посмотреть публикации в СМИ, оценку донорского сообщества и других сообществ, которые вовлечены в эти процессы, операция «Амур-13» считается эталонной.  А в Крымске наоборот, нам вставляли палки в колеса, потому что волонтеры были лишними глазами. Эту чрезвычайную ситуацию пытались спрятать в течение недели, чтобы не показывать количество пострадавших и погибших людей. Волонтеры, которые пользовались своими медийными ресурсами, приезжали и рассказывали, что там на самом деле происходит, хотя по новостям проходила совсем другая информация. Местные власти всячески пытались нас выгнать, были попытки заявить, что в волонтерских лагерях антисанитария, что мы как-то неправильно себя ведем.
А в Крымске наоборот, нам вставляли палки в колеса, потому что волонтеры были лишними глазами. Эту чрезвычайную ситуацию пытались спрятать в течение недели, чтобы не показывать количество пострадавших и погибших людей. Волонтеры, которые пользовались своими медийными ресурсами, приезжали и рассказывали, что там на самом деле происходит, хотя по новостям проходила совсем другая информация. Местные власти всячески пытались нас выгнать, были попытки заявить, что в волонтерских лагерях антисанитария, что мы как-то неправильно себя ведем.
Если власти все же приветствуют работу волонтеров, то удается ли без препон разделить полномочия с госорганами или они диктуют какую-то свою повестку волонтерам?
Конечно, они пытаются указать, где нам нужно работать, а где нет. Но мы независимая организация, мы проводим свою экспертизу и видим, где нужна помощь, а где нет. Вот пример. Республика Алтай, наводнение в 2014 году. В этом месте присутствует некая доля шаманизма: в 1993 году там выкопали мумию принцессы Укока и местное сообщество считает, что все беды в регионе именно из-за этого. В 2004 году, когда мумию отправили на исследование, у них случилось землетрясение, а в 2014 году, когда ее отправили на повторное исследование, случилось крупное наводнение. Правительство республики попросило нас приехать помочь осушить социально значимые объекты. Когда мы туда прилетели, я пошел налаживать связь с местными госорганами. Я попросил список того, что нужно осушить в первую очередь. Больницы, школы, детские сады. Но мне сказали, что в первую очередь нужно осушить музей, где лежит принцесса. Для меня это было смешно, но в итоге я все равно туда приехал. Чтобы не ругаться, мы чуть-чуть сдвинули музей в очереди и осушили сначала социально значимые объекты.  Мы всегда стараемся находить какие-то нейтральные варианты, чтобы не было ругани. Потому что ругаться с местной властью неправильно с точки зрения ресурсов, на это тратится очень много времени и сил. В Крымске у нас выпадали целые дни, потому что мы сидели и выясняли отношения. Хотя в этот момент нужна была срочная помощь в близлежащих населенных пунктах.
Мы всегда стараемся находить какие-то нейтральные варианты, чтобы не было ругани. Потому что ругаться с местной властью неправильно с точки зрения ресурсов, на это тратится очень много времени и сил. В Крымске у нас выпадали целые дни, потому что мы сидели и выясняли отношения. Хотя в этот момент нужна была срочная помощь в близлежащих населенных пунктах.
Годами идет обсуждение вопросов о законодательном регулировании деятельности волонтеров. В Госдуму внесен законопроект, разработанный Советом Федерации, а Общественная палата и Агентство стратегических инициатив по поручению президента готовит план развития российского волонтерства. С вашей точки зрения, есть ли положительные моменты в регулировании волонтерства со стороны государства?
С законопроектом о волонтерстве, который обсуждался в предыдущие годы, я был не согласен категорически. Его писали люди, далекие от добровольческой деятельности, там не было структурировано, какое волонтерство должно поддаваться систематизации, а какое нет. Там было прописано только то, что каждый волонтер должен пройти обучение и получить волонтерскую книжку. Но волонтерство – это душевный порыв. Получалось, что человеку, который хочет помочь наколоть дров бабушке во дворе, нужно пройти обучение непонятно чему, зарегистрироваться и получить книжку. Пока ты пройдешь весь этот процесс, отпадет все желание помогать.  В новых предложениях есть разделение между социальным волонтерством, которое не требует обучения или постановки на учет, и волонтерством во время ЧС. В зону ЧС предлагается не допускать волонтеров, которые не прошли должного обучения. Я считаю, что это правильный подход. Зона ЧС – это зона риска. Сегодня ответственность за допуск неподготовленных людей берут на себя местные власти и координатор группы, который принимает волонтеров. Кроме того, хорошо, что новые предложения включают в себя много мотивирующих моментов для волонтеров. Например, зачеты на экзаменах для студентов, дополнительные баллы ЕГЭ для школьников, даже возможность бесплатного проезда для тех, кто отработал какое-то определенное количество часов.
В новых предложениях есть разделение между социальным волонтерством, которое не требует обучения или постановки на учет, и волонтерством во время ЧС. В зону ЧС предлагается не допускать волонтеров, которые не прошли должного обучения. Я считаю, что это правильный подход. Зона ЧС – это зона риска. Сегодня ответственность за допуск неподготовленных людей берут на себя местные власти и координатор группы, который принимает волонтеров. Кроме того, хорошо, что новые предложения включают в себя много мотивирующих моментов для волонтеров. Например, зачеты на экзаменах для студентов, дополнительные баллы ЕГЭ для школьников, даже возможность бесплатного проезда для тех, кто отработал какое-то определенное количество часов.
Как изменилось и изменилось ли вообще волонтерское движение за последние годы? Есть ли портрет человека-волонтера? Кто он?
Общего портрета нет. Все люди абсолютно разные, у каждого своя мотивация. Кто-то пытается уйти от своих проблем, а кто-то считает, что ему нужно почистить карму. Могу только сказать, что очевиден рост волонтерского движения и его качество. Сейчас волонтерское движение стало намного более качественным. Появились алгоритмы действий при тех или иных ситуациях. Появились эксперты, волонтеры-координаторы, которые знают четко, что им делать в тех или иных ситуациях. Например, я знаю, что делать при наводнении и после него, а Гринпис России и Григорий Куксин – эксперты по тушению пожаров. Мы обращаемся к ним за консультациями. Они одними из первых получают информацию, постоянно уточняют карту пожаров и отслеживают очаги возгорания, исследуют космические снимки и знают, как вычислить, куда пойдет огонь. 
Какие основные проблемы возникают при организации деятельности и в непосредственной работе волонтерских корпусов?
Основная проблема при организации деятельности – это нехватка финансирования, будь то фандрайзинг или дотации со стороны государства, которые невозможно получить заранее, не зная, будет ЧС или нет. То же самое с фандрайзингом – пока ничего не случится, ты не соберешь средств. Второе – освещение деятельности волонтеров при ЧС. Одно вытекает из другого – из-за недостатка освещения есть проблемы со сборами. Кроме того, нет четкого регламента деятельности. Если будет принят закон, то там будет четко прописан регламент взаимодействия госорганов и МЧС с волонтерскими корпусами. Тогда будет проще работать. Сейчас все зависит от твоих личных способностей, от того, сможешь ли ты найти общий язык с конкретным человеком. Что не всегда получается.  ЧС – это всегда стресс для местных властей, а тут еще приезжают какие-то волонтеры, которых никто не знает. Хотя сейчас нам проще – нас уже знают, о нас уже есть достаточно публикаций. А в начале все было сложно. Ты приезжаешь, представляешься, к тебе присматриваются, ты начинаешь работать, на результаты твоей деятельности смотрят и только потом с тобой начинают взаимодействовать. Что касается сложностей с волонтерами, то есть огромное количество людей, которые хотят помогать, но они не подготовлены. Иногда у них случаются психологические травмы, нервные срывы. С этим тоже приходится работать и это, разумеется, отвлекает. Ты занимаешься деятельностью по ликвидации ЧС, а у тебя адресный случай нервного срыва, на который тебе тоже нужно отреагировать. Поговорить с человеком, выяснить причины того, что и как произошло, может быть, отправить его домой.
ЧС – это всегда стресс для местных властей, а тут еще приезжают какие-то волонтеры, которых никто не знает. Хотя сейчас нам проще – нас уже знают, о нас уже есть достаточно публикаций. А в начале все было сложно. Ты приезжаешь, представляешься, к тебе присматриваются, ты начинаешь работать, на результаты твоей деятельности смотрят и только потом с тобой начинают взаимодействовать. Что касается сложностей с волонтерами, то есть огромное количество людей, которые хотят помогать, но они не подготовлены. Иногда у них случаются психологические травмы, нервные срывы. С этим тоже приходится работать и это, разумеется, отвлекает. Ты занимаешься деятельностью по ликвидации ЧС, а у тебя адресный случай нервного срыва, на который тебе тоже нужно отреагировать. Поговорить с человеком, выяснить причины того, что и как произошло, может быть, отправить его домой.  Не хватает и взаимодействия с бизнесом. В свое время была компания «Трансаэро», с которой был заключен негласный договор, что в случае ЧС она готова предоставить волонтерам возможность долететь до места, а также возить до тонны груза гуманитарной помощи регулярными рейсами. К сожалению, этой компании больше нет и договориться с кем-то еще пока не получилось. Был только разовый случай с компанией S7. Мы стараемся снизить все административные расходы. Когда ты собираешь пожертвования на гуманитарную помощь и ликвидацию последствий ЧС, люди рассчитывают на то, что их помощь будет доставлена конкретному человеку. Что их рубль будет потрачен на конкретную помощь. Жертвователю очень трудно объяснить, что волонтеры хотят есть, что им нужно как-то передвигаться, где-то жить, что для доставки оборудования нужен транспорт.
Не хватает и взаимодействия с бизнесом. В свое время была компания «Трансаэро», с которой был заключен негласный договор, что в случае ЧС она готова предоставить волонтерам возможность долететь до места, а также возить до тонны груза гуманитарной помощи регулярными рейсами. К сожалению, этой компании больше нет и договориться с кем-то еще пока не получилось. Был только разовый случай с компанией S7. Мы стараемся снизить все административные расходы. Когда ты собираешь пожертвования на гуманитарную помощь и ликвидацию последствий ЧС, люди рассчитывают на то, что их помощь будет доставлена конкретному человеку. Что их рубль будет потрачен на конкретную помощь. Жертвователю очень трудно объяснить, что волонтеры хотят есть, что им нужно как-то передвигаться, где-то жить, что для доставки оборудования нужен транспорт.
Вы упомянули про нервные срывы, которые случаются у неподготовленных людей. Можно ли сказать, что хороший волонтер в зоне ЧС – это, прежде всего, крепкие нервы?
Не крепкие нервы, а скорее холодный расчет. Нужно, чтобы было меньше эмоций. В начале своей деятельности я многое пропускал через себя, а сейчас просто четко формулирую: «Есть задача, сгорело сто домов, есть порядка двухсот пострадавших, им нужно доставить еду, одежду». Ты не пропускаешь через себя боль, которую сейчас переживают люди. Это можно назвать профессиональной деформацией, циничным отношением к ситуации, но без этого никуда. Иначе ты очень быстро перегораешь. Когда месяцами находишься в зоне ЧС, начинаются нервные срывы. У меня тоже это было, все через это проходят. 
Если у человека есть желание учиться быть эффективным волонтером, который способен помочь другим в зоне ЧС – где и как он может это сделать?
Таких возможностей очень много. Например, мое основное место работы – Русская гуманитарная миссия. Уже третий год у нас идет проект по обучению волонтеров для оказания помощи в зонах ЧС и вооруженных конфликтов. Мы получили положительную оценку Красного Креста и представителя ООН о качестве обучения. Наши курсы проводятся безвозмездно, каждый желающий может сделать это бесплатно, если пройдет отбор у преподавателей. Помимо этого, есть курсы молодежного крыла Российского союза спасателей – у них на постоянной основе работает учебный центр. Если пройти несколько этапов обучения, то выдается корочка профессионального спасателя.  Источник: https://www.asi.org.ru/news/2017/06/16/konstantin/
Источник: https://www.asi.org.ru/news/2017/06/16/konstantin/